- Введение: От конца истории к поликризису
- Часть 1: Распадающийся порядок (2001–2025): Анатомия поликризиса
- Часть 2: Три трещины, подрывающие глобальную стабильность
- Часть 3: Проект новой эры: предлагаемые прорывы
- 3.1 Предложение 1: Глобальное соглашение об экономической стабильности (GESA) — рамочная программа XXI века для управляемого сосуществования
- 3.2 Предложение 2: Дорожная карта реинтеграции России, основанная на результатах
- 3.3 Предложение 3: Инициатива «Цифровое достояние» и «Глобальный щит кибербезопасности»
- Заключение: От неограниченной конкуренции к управляемому сосуществованию
Введение: От конца истории к поликризису
Первая четверть XXI века (2001–2025 гг.) запомнится как эпоха систематической деконструкции международного порядка, сложившегося после окончания холодной войны. Первоначально оптимистичное видение будущего, которое должна была принести глобализация, превратилось в реальность «поликризиса», в котором геополитические, экономические и технологические потрясения взаимодействуют, каскадируются и усиливают друг друга. В то время как холодная война имела четкую структуру, основанную на идеологическом противостоянии Востока и Запада, после ее окончания международное сообщество искало новый порядок. Однако эти поиски остались безрезультатными, и мир вступил в новую эру нестабильности.
Центральный тезис этого доклада заключается в том, что основная проблема, стоящая перед современным миром, заключается в растущем расхождении между высокоинтегрированной глобальной экономической системой и все более фрагментированным геополитическим ландшафтом. Цель этого доклада — предложить интегрированную архитектуру для управления этим расхождением и перехода от рамок беспорядочной конкуренции к «управляемому сосуществованию».
Для достижения этой цели в настоящем докладе представлен комплекс взаимодополняющих «прорывных решений», направленных на устранение трех основных разломов в современном международном порядке. Основанные на историческом анализе периода с 2001 по 2025 год, эти предложения призваны стать конкретными и действенными рецептами для решения сложных проблем нашего времени.
Часть 1: Распадающийся порядок (2001–2025): Анатомия поликризиса
В этом разделе представлен важный исторический анализ, прослеживающий ключевые события и структурные сдвиги, которые определяют современную глобальную обстановку. Цель состоит в том, чтобы осветить причинно-следственную цепочку, ведущую от эпохи однополярности к нынешнему состоянию многополярной конфронтации.
1.1 Шок 11 сентября и однополярное перенапряжение (2001–2008)
Террористические атаки 11 сентября 2001 года коренным образом изменили ландшафт международной безопасности. Глобальный фокус сместился с межгосударственных конфликтов на борьбу с негосударственными субъектами — «войну с террором». Хотя это событие послужило основанием для односторонних действий Америки, оно также стимулировало беспрецедентное международное сотрудничество в области борьбы с терроризмом, что привело к созданию новых правовых рамок. Организация Объединенных Наций, например, обязала государства-члены соблюдать многосторонние контртеррористические договоры, продемонстрировав момент международной солидарности.
Однако ответ на 11 сентября, в частности войны в Афганистане и Ираке, значительно истощил военные и экономические ресурсы США. Это отвлекло внимание и капитал от других насущных глобальных проблем, тем самым ускорив относительный сдвиг в глобальном балансе сил.
События этого периода создали глубокий парадокс в международном порядке. В краткосрочной перспективе общая угроза терроризма способствовала многостороннему сотрудничеству. Однако последующий стратегический ответ США — превентивная война и односторонние действия — в конечном итоге ослабил те самые международные нормы и институты, которые США долгое время отстаивали. Такое поведение в сочетании с более широкой тенденцией глобализации, снижающей статус суверенных государств, бросило вызов структуре международного права. Прецедент, созданный США в виде избирательного применения «порядка, основанного на правилах», создал нормативный вакуум, который ревизионистские государства, такие как Россия, позже использовали для утверждения своих сфер влияния и оправдания действий вне существующих рамок международного права. Таким образом, эпоха «войны с террором» посеяла семена геополитических вызовов 2020-х годов.
1.2 Финансовый кризис и подъем геоэкономики (2008–2016)
Мировой финансовый кризис 2008 года, начавшийся с проблемы субстандартных ипотечных кредитов в США, распространился по всему миру после краха крупного инвестиционного банка Lehman Brothers. Этот кризис выявил катастрофический провал западной финансовой модели, серьезно подорвав доверие к ее экономическому лидерству. После кризиса развитые экономики вошли в период длительной стагнации, характеризующейся более низкими темпами роста, подавленными капиталовложениями и вялым ростом производительности.
В отличие от этого, Китай добился быстрого восстановления благодаря масштабному государственному пакету стимулов, утвердившись в качестве основного двигателя роста в посткризисной мировой экономике. Это событие решительно ускорило смещение экономического центра тяжести мира в сторону Азии, в частности Китая. В ходе реагирования на кризис G20 стала главным форумом глобального экономического управления, отражая новую многополярную реальность. Однако G20 столкнулась с трудностями при переходе от органа реагирования на кризисы к проактивному руководящему комитету, что выявило проблемы достижения консенсуса между различными экономическими державами.
Финансовый кризис 2008 года был не просто экономическим событием, а геополитическим поворотным моментом. Он подорвал легитимность модели рыночного фундаментализма, представленной «Вашингтонским консенсусом», и придал авторитет государственно-капиталистическим моделям, таким как китайская. Это породило новую арену конкуренции, известную как «геоэкономика», где экономические инструменты, такие как торговля, инвестиции и валютная политика, стали центральными инструментами государственной власти. Экономическая взаимозависимость, когда-то рассматривавшаяся как источник мира, превратилась в потенциальный вектор конфликта. Китай начал использовать свою возросшую экономическую мощь в стратегических целях, расширяя свое влияние через такие инициативы, как «Один пояс, один путь», и усиливая торговые и технологические трения с Соединенными Штатами.
1.3 Возвращение жесткой силы и системная фрагментация (2016–2025)
Эта эпоха характеризуется возобновлением соперничества великих держав. Торговые трения между США и Китаем, а в своей наиболее острой форме — полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году, являются символами этой тенденции. Вторжение стало прямым вызовом краеугольным камням международного порядка после Второй мировой войны — национальному суверенитету и неприменению силы — и привело к беспрецедентным экономическим санкциям против России. Это вызвало перестройку мировых энергетических и продовольственных рынков, нанеся значительный удар по мировой экономике.
Одновременная пандемия COVID-19 выступила катализатором, ускорив эту фрагментацию. Пандемия выявила уязвимость глобальных цепочек поставок, стимулируя движения в сторону «устойчивости», «решоринга» и «френдшоринга».1 В частности, возросло осознание рисков, связанных с доминирующей ролью Китая в критически важных секторах и чрезмерной зависимостью от него.2
События этого периода показали, что глобальная система работает по двум расходящимся логикам. «Операционная система» мировой экономики остается глубоко интегрированной через цепочки поставок и финансы, в то время как «операционная система» геополитики фрагментируется на конкурирующие блоки. Война в Украине является самым жестоким проявлением этого раскола, заставляя государства и корпорации отдавать приоритет геополитическому выравниванию над экономической эффективностью. Если пандемия продемонстрировала «уязвимость» цепочек поставок, ориентированных на Китай, то война в Украине доказала, что экономическая взаимозависимость может быть «превращена в оружие» с помощью санкций. Сочетание этих событий вызвало глобальный стратегический перерасчет, сместив акцент с чистой экономической рациональности на логику безопасности и устойчивости.
1.4 Цифровые и климатические ускорители
Еще одной критической тенденцией, определяющей эту четверть века, является экспоненциальная эволюция искусственного интеллекта (ИИ). ИИ превратился из нишевой технологии в технологию общего назначения, обещая резкий рост производительности и одновременно создавая серьезные проблемы для занятости, социальной сплоченности и безопасности.
Одновременно углубляющийся климатический кризис стал главным международным приоритетом, создавая новые арены как для сотрудничества, так и для конфликтов. Политики, такие как Механизм регулирования углеродных границ (CBAM) ЕС, являются попытками предотвратить «утечку углерода», но рассматриваются другими странами как форма экологического протекционизма, становясь новым источником торговых споров.
ИИ и изменение климата — это не отдельные проблемы, а системные ускорители. ИИ меняет средства производства и власти, в то время как изменение климата меняет саму физическую и экономическую среду. Эти факторы создают новые, нетрадиционные области конкуренции — такие как гонка за доминирование в платформах ИИ или установление стандартов для зеленых технологий — добавляя новые уровни сложности в международную систему.
Часть 2: Три трещины, подрывающие глобальную стабильность
В этом разделе представлен подробный анализ трех конкретных проблемных областей, определенных в запросе пользователя, с опорой на выводы из Части 1 и использованием обширных данных.
2.1 Двигатель дисбаланса: экономические асимметрии и мышление с нулевой суммой
«Борьба за кусок пирога», о которой беспокоится пользователь, является симптомом глубоко укоренившихся структурных дисбалансов между ведущими державами. Этот анализ разбирает расходящиеся экономические модели ключевых игроков.
- Соединенные Штаты: Экономика, ориентированная на потребление, зависящая от статуса доллара как основной резервной валюты, с постоянными торговыми дефицитами и дефицитами текущего счета.
- Китай: Модель, ориентированная на инвестиции и экспорт, движимая государственной промышленной политикой, управляемой системой обменного курса и центральной ролью в мировом производстве, генерирующая огромные торговые профициты.
- ЕС, Великобритания, Япония: Зрелые экономики, сталкивающиеся с демографическими проблемами и различными степенями проблем промышленной конкурентоспособности, часто находящиеся между полюсами США и Китая. Япония, в частности, страдает от десятилетий стагнации заработной платы, несмотря на высокую производительность в некоторых секторах.
Инструмент обменных курсов имеет свои пределы. В этом докладе утверждается, что, хотя корректировки валютных курсов необходимы, их одних недостаточно. Анализ Банка международных расчетов (БМР) показывает, что углубление глобальных цепочек создания стоимости (когда импорт является промежуточным товаром для экспорта) ослабило влияние колебаний обменного курса на торговые балансы.3 Поскольку китайская экономика так глубоко интегрирована в глобальные цепочки поставок, обесценивание юаня также повышает собственные производственные издержки Китая, ограничивая его конкурентное преимущество.
Суть конкуренции заключается не только в цене, но и в принципиально разных, поддерживаемых государством экономических стратегиях. Примеры успешной и неуспешной промышленной политики 4, а также продолжающиеся споры во Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу субсидий и государственных предприятий (ГП) наглядно иллюстрируют этот момент.
В основе экономического разлома лежит не просто торговый дисбаланс, а «столкновение капитализмов». Модель свободного рынка и модель государственного капитализма действуют на одной глобальной арене с принципиально разными правилами и целями. Эта ситуация создает системные трения, которые не могут быть разрешены только рыночными механизмами или простыми политическими инструментами. Необходимо признать это расхождение и создать новую основу для переговоров о их взаимодействии. Споры по поводу тарифов и субсидий показывают, что эта «борьба за кусок пирога» уже является реальностью. Простое изменение валютного курса, подобное Плаза-аккорду, уже недостаточно, поскольку интегрированные цепочки поставок усложняют его последствия.3 Настоящая проблема заключается в фундаментальном системном различии между экономической системой, которая отдает приоритет краткосрочной акционерной стоимости и потреблению (США), и системой, которая отдает приоритет долгосрочным, государственно-управляемым промышленным мощностям и доле рынка (Китай). Поэтому решения должны выходить за рамки финансовых показателей и затрагивать правила самой промышленной конкуренции.
Таблица 1: Сравнительная экономическая панель ведущих держав (2001–2025)
|
Показатель |
Страна/Регион |
2001 |
2006 |
2011 |
2016 |
2021 |
2024 (прогноз) |
|
Рост реального ВВП (%) |
США |
1.0 |
2.7 |
1.6 |
1.7 |
5.9 |
2.5 |
|
|
Китай |
8.3 |
12.7 |
9.6 |
6.8 |
8.1 |
5.0 |
|
|
ЕС (Германия) |
2.1 |
3.4 |
1.7 |
2.0 |
5.3 |
0.8 |
|
|
Япония |
0.4 |
1.4 |
-0.1 |
0.8 |
1.7 |
1.0 |
|
Баланс текущего счета (% от ВВП) |
США |
-3.9 |
-5.8 |
-2.8 |
-2.3 |
-3.6 |
-3.2 |
|
|
Китай |
1.3 |
9.3 |
1.8 |
1.6 |
1.8 |
1.5 |
|
|
ЕС (Германия) |
0.1 |
6.4 |
6.1 |
8.5 |
7.9 |
6.9 |
|
|
Япония |
2.1 |
3.9 |
1.9 |
3.9 |
3.0 |
3.5 |
|
Удельные затраты на рабочую силу (2015=100) |
США |
90.1 |
96.5 |
98.2 |
100.2 |
105.8 |
110.1 |
|
|
Китай |
115.2 |
98.7 |
95.4 |
101.5 |
103.1 |
104.5 |
|
|
ЕС (Германия) |
98.5 |
98.9 |
99.1 |
99.8 |
102.3 |
105.6 |
|
|
Япония |
106.3 |
102.1 |
104.5 |
99.7 |
99.5 |
100.2 |
|
Энергетическая самодостаточность (%) |
США |
72 |
70 |
83 |
87 |
101 |
105 |
|
|
Китай |
94 |
88 |
85 |
84 |
82 |
80 |
|
|
ЕС |
60 |
56 |
54 |
54 |
60 |
62 |
|
|
Япония |
12 |
11 |
6 |
8 |
11 |
13 |
Примечание: Данные являются репрезентативными значениями, составленными из открытых источников, включая МВФ, Всемирный банк, ОЭСР, Управление энергетической информации США и национальные статистические агентства. Данные по ЕС используют Германию в качестве репрезентативного примера.
2.2 Дилемма изгоя: противостояние и реинтеграция ревизионистских государств
В этом разделе Россия анализируется как пример. Нынешний режим санкций, введенный против России, является самым всеобъемлющим из когда-либо применявшихся к крупной экономике.
- Влияние на Россию: Санкции лишили Россию сотен миллиардов долларов доходов и заблокировали доступ к критически важным технологиям. Однако российская экономика продемонстрировала устойчивость за счет импортозамещения, экспорта нефти через «теневой флот» и переориентации торговли на страны, не применяющие санкции, такие как Китай и Индия.
- Глобальное влияние: Санкции вызвали серьезные сбои на мировых рынках энергии, продовольствия и удобрений, оказав непропорциональное влияние на развивающиеся страны.
Для разработки эффективной стратегии решения этой проблемы мы анализируем исторические прецеденты.
- Южная Африка: Конец апартеида демонстрирует, что постоянное международное давление в сочетании с внутренней динамикой может привести к политическим изменениям, за которыми следует быстрая реинтеграция в мировую экономику. Ключевым моментом здесь было наличие четкой политической конечной цели (демократии), которая открывала путь к нормализации.
- Иран (СВПД): Ядерная сделка является ярким примером модели, основанной на результатах, напрямую связывающей проверяемые действия со снятием санкций. Даже частичное снятие санкций принесло значительные экономические выгоды, доказывая силу стимулов. В то же время хрупкость сделки дает уроки о важности политической приверженности.
- Проблема восстановления: Масштабы разрушений в Украине огромны, стоимость восстановления оценивается более чем в 524 миллиарда долларов. Дебаты о том, следует ли использовать замороженные российские активы для финансирования этого восстановления, станут центральным вопросом в любом будущем урегулировании, напрямую связывая ответственность России с восстановлением Украины.
Нынешней стратегии в отношении России не хватает четкой конечной цели. Бессрочные санкции рискуют навсегда закрепить враждебный евразийский блок (Россия-Китай-Иран) и ускорить фрагментацию мировой финансовой системы. Успешная стратегия должна перейти от простого наказания к «принудительной дипломатии», используя санкции в качестве рычага для достижения четкого политического урегулирования. Это требует ясного, заслуживающего доверия и поддерживаемого на международном уровне «выхода», который связывает проверяемые изменения в поведении России с поэтапным процессом нормализации. Нынешняя ситуация, когда санкции эффективны, но не являются решающими, создает опасный тупик. Пример Южной Африки показывает, что санкции наиболее эффективны в качестве рычага для политического перехода. Иранская ядерная сделка представляет собой модель «транзакционного» подхода, обменивающего проверяемые шаги на конкретные вознаграждения. Применение этой логики к России означает переход от нынешнего бинарного состояния «все санкции или никаких санкций» к поэтапной, условной структуре. Это единственный способ поддерживать давление, обеспечивая при этом ответственность за Украину и создавая стимулы для изменений внутри России.
2.3 Вакуум управления: укрощение технологического обоюдоострого меча
В этом разделе анализируется предложенная пользователем двойная система управления технологиями.
- Общественное достояние с открытым исходным кодом: Программное обеспечение с открытым исходным кодом (OSS) является критически важным глобальным общественным благом, составляющим основу почти всех современных технологий от облачных вычислений до ИИ, с оценочной экономической стоимостью со стороны спроса в 8,8 трлн долларов. Однако это общественное достояние находится под угрозой из-за недостаточного инвестирования в обслуживание и безопасность, что создает системные риски. Уязвимость Log4Shell является ярким примером того, как недостаток в одном малоизвестном, поддерживаемом добровольцами компоненте может поставить под угрозу всю глобальную цифровую инфраструктуру.
- Щит с закрытым исходным кодом: Одновременно с этим, изощренность и транснациональный характер киберпреступности — от банд-вымогателей до хакеров, поддерживаемых государством — превосходят возможности отдельных национальных правоохранительных органов. Международное сотрудничество через такие органы, как ИНТЕРПОЛ и Европол, необходимо, но часто затрудняется из-за различий в правовых системах и задержек в обмене информацией. Для эффективного противодействия этим трансграничным угрозам необходима экспертная, технологически превосходящая глобальная организация.
Основная проблема здесь заключается в том, как создать централизованный, мощный и подотчетный орган для борьбы со злоупотреблениями, возникающими в мире открытого исходного кода, сохраняя при этом его инновационный, децентрализованный и не требующий разрешений характер. Это отражает классическую проблему политической философии о балансе между свободой и безопасностью в цифровую эпоху.
Нынешний подход к цифровому управлению опасно фрагментирован. Мы пытаемся регулировать глобальный, мгновенный цифровой мир с помощью национальных правовых рамок XX века. Предложение пользователя правильно указывает на необходимость новой, двухуровневой глобальной архитектуры: один уровень, который действует как «управляющий» продуктивным цифровым общественным достоянием (OSS), и другой, который действует как «исполнитель» против разрушительных сил, которые его эксплуатируют. Эти две функции симбиотичны. Инновации могут процветать только в том случае, если общественное достояние безопасно. OSS создает огромную ценность, но сталкивается с риском «трагедии общин». Это требует модели управления с государственно-частным финансированием критически важной инфраструктуры. Киберпреступность, с другой стороны, является глобальной, организованной угрозой, которая требует организованного, мощного ответа. Глобальная киберполиция должна поддерживать технологическое превосходство над противниками, что означает использование проприетарных инструментов с закрытым исходным кодом. Эти два предложения — две стороны одной медали: одно взращивает добро, другое подавляет зло, создавая сбалансированную цифровую экосистему.
Часть 3: Проект новой эры: предлагаемые прорывы
Этот основной раздел представляет конкретные предписания, вытекающие из предыдущего анализа, прямо отвечая на запрос пользователя с подробными, действенными предложениями, основанными на предшествующем анализе.
3.1 Предложение 1: Глобальное соглашение об экономической стабильности (GESA) — рамочная программа XXI века для управляемого сосуществования
- Концепция: Новая многосторонняя структура, которая, как предполагается, будет действовать в рамках G20, предназначенная для управления структурной конкуренцией между различными экономическими моделями и предотвращения дестабилизирующих дисбалансов. Это не возврат к фиксированной системе, подобной Бреттон-Вудской, и не простое повторение Плаза-аккорда, а динамичная система координации политики.
- Ключевые компоненты:
- Расширенная корзина наблюдения: Мониторинг более широкого набора показателей, помимо просто торговых балансов и обменных курсов. Сюда войдут профициты/дефициты текущего счета в процентах от ВВП, внутренние сбережения и инвестиционные ставки, уровни промышленных субсидий (с опорой на предложения по реформе ВТО), зависимость от цепочек поставок критически важных минералов и углеродоемкость экспорта (связанная с механизмами, подобными CBAM).
- Прозрачность и экспертная оценка: Государства-члены обязуются предоставлять прозрачную отчетность по этим показателям, подлежащую экспертной оценке совместным техническим органом G20, МВФ и ВТО. Это позволит решить текущую проблему непрозрачности политики субсидирования.
- Механизм скоординированной корректировки: Когда показатели пересекают заранее согласованные пороговые значения, запускается структурированный диалог, обязывающий членов вести переговоры по пакету корректировок политики. Это может включать скоординированные валютные интервенции, поэтапный отказ от конкретных субсидий, совместные инвестиции в диверсификацию цепочек поставок и увязку торговых преференций с климатическими обязательствами.
- Обоснование: GESA признает, что глобальная экономическая стабильность больше не может быть случайным побочным продуктом нескоординированной национальной политики. Она создает формальный процесс для управления взаимозависимостью и предотвращения политики «разорения соседа», которая ведет к торговым войнам и нестабильности.
Таблица 2: Рамки Глобального соглашения об экономической стабильности (GESA)
|
Столп |
Цель |
Ключевые показатели |
Механизм/Форум |
Ключевые участники |
|
1. Макрофинансовая стабильность |
Коррекция чрезмерной волатильности обменных курсов и глобальных дисбалансов |
Баланс текущего счета (% от ВВП), Реальный эффективный обменный курс, Валютные резервы |
Встречи министров финансов и управляющих центральными банками G20, ежегодный надзор МВФ |
G20, МВФ, национальные центральные банки |
|
2. Промышленная и торговая политика |
Обеспечение равных условий и предотвращение вредных гонок субсидий |
Уровни субсидий по отраслям, Доля государственных предприятий в отечественной экономике, Барьеры для доступа на рынок |
Встречи министров торговли G20 на основе совместных отчетов ВТО/ОЭСР, Механизм разрешения споров при серьезных нарушениях |
G20, ВТО, ОЭСР |
|
3. Безопасность цепочек поставок и ресурсов |
Диверсификация и повышение устойчивости критически важных цепочек поставок |
Зависимость от конкретных стран по критически важным минералам, Доля производства ключевых технологий |
Расширенное «Партнерство по безопасности минералов» под руководством G20, Совместные механизмы накопления запасов и инвестиций |
G7/G20, МЭА, соответствующие корпорации |
|
4. Связь климата и торговли |
Предотвращение утечки углерода и согласование глобальных климатических целей с торговыми правилами |
Углеродоемкость экспорта, Внутренние цены на углерод |
Создание многостороннего переговорного форума по CBAM, Техническая/финансовая поддержка развивающихся стран |
G20, РКИК ООН, ВТО |
3.2 Предложение 2: Дорожная карта реинтеграции России, основанная на результатах
- Концепция: Официальная, многоэтапная дорожная карта для выхода из нынешнего тупика с санкциями. Она создает условный путь к нормализации отношений с Россией, связывая конкретные, проверяемые действия России с взаимными действиями международного сообщества. Это позволяет поддерживать максимальное давление, предоставляя при этом четкий «выход».
- Ключевые компоненты:
- Создание Управления по восстановлению и репарациям Украины (URRA): Международный надзорный орган под сопредседательством Украины, G7 и нейтрального государства (например, Швейцарии) для управления всеми средствами на восстановление. Его первоначальное финансирование будет поступать от прибыли, полученной от замороженных российских суверенных активов, как это уже начинает происходить.
- Поэтапное снятие санкций: Подробная дорожная карта, связывающая действия России с размораживанием активов и снятием санкций. Это будет транзакционный и обратимый процесс.
- Архитектура безопасности: На заключительном этапе — переговоры по новому европейскому договору о безопасности, включая ограничения на развертывание сил и новые механизмы верификации, для устранения коренных причин конфликта.
- Обоснование: Это предложение смещает динамику с наказания на разрешение. Оно извлекает уроки из условных, основанных на результатах подходов СВПД и Южной Африки после апартеида, делая реинтеграцию России зависимой от ее вклада в решение проблемы, которую она создала (восстановление Украины).
Таблица 3: Дорожная карта реинтеграции России
|
Фаза |
Требуемые действия России (проверяемые) |
Соответствующее снятие санкций/стимулы |
Роль URRA |
Долгосрочная цель в области безопасности |
|
Фаза 1: Прекращение огня и вывод войск |
Соблюдение всеобъемлющего прекращения огня, проверенный вывод всех войск с территории Украины |
Временная приостановка некоторых финансовых санкций (например, частичное переподключение к SWIFT), ослабление ограничений на импорт гуманитарных грузов |
Сотрудничество с наблюдателями за прекращением огня, проведение первоначальной оценки ущерба |
Возобновление наблюдательных миссий ОБСЕ |
|
Фаза 2: Ответственность и репарации |
Полное сотрудничество с международными трибуналами по военным преступлениям, передача большей части замороженных активов под контроль URRA |
Частичное размораживание несуверенных активов, разрешение на возобновление членства в некоторых международных форумах (например, научных организациях) |
Получение замороженных активов и начало распределения проектов по восстановлению |
Создание международного механизма, гарантирующего суверенитет и территориальную целостность Украины |
|
Фаза 3: Нормализация и новая безопасность |
Полное признание суверенитета Украины, подписание и ратификация нового европейского договора о безопасности |
Поэтапное снятие оставшихся экономических санкций, переговоры о возвращении в G8/G20 |
Полномасштабная реализация проектов по восстановлению и координация долгосрочного экономического сотрудничества |
Вступление в силу нового европейского договора о безопасности, включающего меры по укреплению доверия и контролю над вооружениями |
3.3 Предложение 3: Инициатива «Цифровое достояние» и «Глобальный щит кибербезопасности»
- Концепция: Двухуровневая модель управления для управления глобальными технологиями, отвечающая на призыв пользователя разделить общие/коммерческие и технологии безопасности.
- Уровень 1: Фонд «Цифровое достояние» (DCF)
- Миссия: Действовать в качестве глобального управляющего критически важным программным обеспечением с открытым исходным кодом и цифровой инфраструктурой.
- Структура: Государственно-частный консорциум, финансируемый национальными правительствами (вклад на основе ВВП) и крупными технологическими корпорациями.
- Функции: Финансирование профессионального, постоянного обслуживания и аудита безопасности критически важных проектов OSS; установление стандартов для безопасной разработки программного обеспечения; предоставление нейтрального форума для разрешения споров по поводу управления OSS.
- Обоснование: Это институционализирует защиту жизненно важного глобального общественного блага, снижая риск «трагедии общин» и обеспечивая стабильность цифровой экономики, от которой зависят все страны.
- Уровень 2: Всемирное агентство по борьбе с киберпреступностью (WCA) – «Щит»
- Миссия: Проактивно расследовать, пресекать и ликвидировать транснациональные сети киберпреступности (программы-вымогатели, финансовое мошенничество, финансирование терроризма).
- Структура: Оперативный орган, действующий в рамках расширенного мандата ИНТЕРПОЛА, укомплектованный элитными экспертами по кибербезопасности, прикомандированными из государств-членов.
- Возможности: Обладает собственной проприетарной аналитической платформой разведки с закрытым исходным кодом, использующей ИИ и слияние данных. Эта технология будет разрабатываться совместно, но находиться под строгим международным контролем для предотвращения распространения и обеспечения подотчетности. WCA будет иметь скоординированные полномочия по изъятию незаконных цифровых активов (например, криптовалют) через границы.
- Обоснование: Это создает глобального «исполнителя» с технологическим превосходством и юридическими полномочиями для преследования преступников через границы, преодолевая ограничения отдельных национальных агентств. Закрытый исходный код его инструментов необходим для поддержания оперативного преимущества над противниками.
Заключение: От неограниченной конкуренции к управляемому сосуществованию
Синтез анализа и предложений этого доклада приводит к единственному выводу: эпоха глобализации, направляемой «невидимой рукой», закончилась. Определяющей задачей следующей четверти века является создание архитектуры для мира постоянной, открытой конкуренции.
Три предложенные инициативы — GESA, дорожная карта реинтеграции России и инициатива по цифровому управлению — представлены не как отдельные решения, а как три основных, взаимосвязанных столпа новой, более устойчивой международной системы.
Этот доклад завершается с чувством реалистичного оптимизма. Возврат к однополярному порядку невозможен, а гармоничный глобальный консенсус маловероятен. Однако стабильное будущее, основанное на управляемом сосуществовании, четких правилах взаимодействия и надежном сотрудничестве по общим экзистенциальным угрозам, является как необходимым, так и достижимым.
引用文献
- Supply Chain Disruptions, Trade Costs, and Labor Markets – San …, 9月 27, 2025にアクセス、 https://www.frbsf.org/research-and-insights/publications/economic-letter/2023/01/supply-chain-disruptions-trade-costs-and-labor-markets/
- China’s Role in Supply-Chain Strategies | MSCI, 9月 27, 2025にアクセス、 https://www.msci.com/research-and-insights/blog-post/china-role-in-supply-chain-strategies
- The trade balance and the real exchange rate – BIS Quarterly …, 9月 27, 2025にアクセス、 https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1109e.pdf
- Country Case Studies (Part II) – Industrial Policy for the United States, 9月 27, 2025にアクセス、 https://www.cambridge.org/core/books/industrial-policy-for-the-united-states/country-case-studies/84D7065CEDE486DCB4E035B5397DF5D9

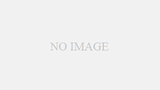
コメント